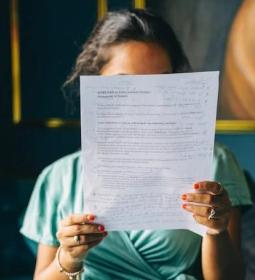В 1976 в кинопрокат вышел новый японский кинофильм: заграничные ленты привлекали интерес, и «Смерть Японии» не стала исключением. Когда погас свет и открылись темно-красные занавеси, зрителей ждал эпический фильм-катастрофа, в котором учёный борется за спасение страны Восходящего Солнца от ужасающего цунами. Картину показали на экранах в 890 населённых пунктах РСФСР, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Средней Азии и Закавказья, в том числе – в Норильске, закрытых наукоградах и атомградах, военных частях и соединениях РВСН и военно-морского флота Советского Союза.

Картину встретили положительно, даже было решено увеличить количество кинообменов между СССР и Японией до 20. Кинозрители и представить не могли, что пройдёт немного времени и их собственные города подвергнутся опустошению не хуже вымышленной, сказочной страны, которую они только что увидели на экране.
К очередному съезду отечественная индустрия развлечений выпустила свой собственный фильм-хоррор. «Комиссия по расследованию» рассказала об аварии на атомной электростанции. Снимали за Полярным кругом, в 1500 километров от Москвы, недалеко от места под названием Кировск.

Кировск был настолько популярен как место съёмок кино, что его окрестили арктическим Голливудом. Кировчане были статистами в десятках кинолент. Но кино не было основной отраслью. Он был типичным моногородом: это шахтёрский посёлок, хотя добывают здесь не топливо, а апатиты – сырье для химической промышленности и производства удобрений.
В «Следственной комиссии» катастрофа была предотвращена, но для кинозрителей Кировска, встречавших на экране знакомые сцены и лица, содержалось пророческое послание. Через два десятилетия, с распадом Союза, город также оказался на грани катастрофы из-за разрухи и банкротства местной горнодобывающей отрасли.
Вопрос о том, почему некоторые моногорода выживают, а другие нет – актуальная история для сегодняшней России и проблема, знакомая не понаслышке другим индустриально развитым государствам.
Расскажем историю одного.
Кадыкчан

Кадыкчан находится в Магаданской области. Как и любое поселение в этой части России, он начинал как лагерь. Вся территория в просторечии зовётся Колыма, по имени протекающей через эти земли огромной реки. Его название до сих пор вызывает противоречивые чувства в сердцах сограждан.
Сталин начал заселять эти места в 30-х, чтобы, получить доступ к месторождениям полезных ископаемых, металлов и золота для проведения быстрой индустриализации СССР. По жестокой логике времени самым быстрым способом эксплуатации богатств Севера было использование принудительного труда.
За четверть века, когда здесь действовали лагеря, через систему ГУЛАГа прошёл почти миллион зеков — и не меньше четверти погибли от голода, холода и лишений. Варлам Шаламов, один из знаковых писателей советской страны, провёл здесь почти два десятилетия в лагерях, в том числе два жестоких года в Кадыкчане, работая на новой угольной шахте. Он оказался здесь за считанные месяцы до того, как прозвучали первые выстрелы Великой Отечественной войны, и подытожил жизнь в этих местах в жгучем сборнике «Колымские рассказы»:
«Кровавые волдыри, голод и побои. Так нас встретил Кадыкчан».
В конце пятидесятых каторгу закрыли и две городские шахты №10 и №7 эксплуатировались гражданскими лицами. Горняки ехали сюда из других угледобывающих районов СССР, привлечённые обещанием квартиры и хороших денег. Население росло и к закату шестидесятых достигло 6000. В 1970-е в тут было хорошо: правительство СССР заботилось о своих промышленных рабочих, особенно о тех, кто трудился на удалённых рубежах, таких как Магадан или крайний Север. Магазины были хорошо обеспечены товарами, а в ресторане «Полярный» всегда было вино и живая музыка. Тут построили больницу и две школы, а долгим северным летом в клубе проходил музыкальный фестиваль «Белые ночи». Жизнь строилась вокруг рудника, и даже кинотеатры подстраивали расписание сеансов под график горняцких смен. Это был молодой форпост социалистического государства, где расстояния и экстремальный климат сближали людей.
Наступили восьмидесятые, короткая эпоха расцвета сменилась стагнацией. Командная экономика разваливалась. Заработная плата перестала выплачиваться вовремя, но иногда появлялись неожиданные возможности. Однажды рабочим выдали зарплату видеомагнитофонами и в то время, пока кассетник оставался редкостью в республиканских столицах, здесь, на северАх, настал бум видеокассет.
С началом девяностых и распадом Советского Союза жизнь стала намного тяжелее. Платить перестали совсем, и денег не хватало даже на элементарные вещи, еду. В школах случались голодные обмороки. Шахта №7 была закрыта в 1992, запасы угля на ней исчерпаны. Люди начали уезжать из Кадыкчана в поисках работы в другие части нашей бескрайней родины.

В 1996 случилась трагедия. В пятницу 15 ноября, в 11.35, когда подходила к завершению утренняя смена, в шахте №10 произошёл взрыв метана. В забое стояли 27 горняков, шестеро из них погибли. После этого работы на руднике прекратились, и большинство сотрудников отправились по домам в неоплачиваемые отпуска. Местные власти решили, что работа на объекте нецелесообразна, и началась двухлетка выматывающих переговоров о её закрытии. Закрыли бы сразу, но вмешался новый независимый Горно-металлургический профсоюз России, чьи лидеры, Борис Мисник и Александр Кузнецов, избрались в Госдуму по спискам партии «Яблоко». Газеты были полны историй, отражающих отчаяние кадыкчанцев, столкнувшихся в разгар суровой зимы с бедностью, неопределённостью и настоящим страхом, что вышедшая из строя теплоцентраль перестанет подавать тепло.
В 1998 была поставлена точка. Вход в штольню №10 был взорван, а сама она затоплена, чтобы не допустить проникновения злоумышленников. Спустя 60 долгих лет добыча угля в Кадыкчане была закончена. Без него у города больше не было смысла существовать. Благодаря вмешательству профсоюзных депутатов рабочие получили краткосрочные сертификаты, которыми можно было воспользоваться для выезда на большую землю. Когда выехала большая часть жильцов, местные власти сожгли основные административные здания, а немногочисленные жители оказались брошены на произвол клыков мороза.
В 2010 посёлок, где до последнего оставались жилые улицы, опустел окончательно, став призраком.
Судьба моногорода

После небольшого всплеска в 2009 тема населённых пунктов с узкой специализацией и короткими перспективами вновь пропала из политической повестки и выпусков новостей. Самым громким упоминанием за эти 11 лет можно считать появление темы умирающих промышленных форпостов в предвыборной программе «Яблока» в 2016, но тогда партии не удалось прорваться в парламент.
Декадой спустя их было 321, самым крупным из которых был Тольятти с населением в 720 тысяч.
В том списке есть:
- Свободный (Приамурье)
- Череповец (Вологодчина)
- Краснокаменск (Забайкалье)
- Тулун и Усолье-Сибирское (Иркутская область)
- Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Киселёвск и Юрга (Кемерово)
- Ревда, Ковдор и вышеупомянутый Кировск (Мурманский полуостров)
- Кондопога (Республика Карелия).
Минэкономразвития разделяет моногорода на кризисные, стабильные и потенциально высокорисковые. Чуть меньше трети – 97 – находятся в «красной зоне», а значит, потенциально имеют все шансы пойти по пути Кадыкчана.