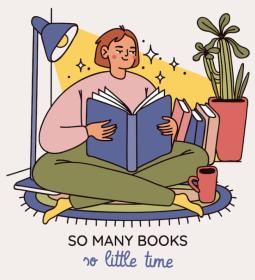До революции — что бы там ни говорили фанаты хруста французской булки — не было начального обязательного и всеобщего обучения. В лучшем случае земства устраивали трёхклассные (шестилетние) начальные училища, где-то были гимназии или реальные училища, но в целом финансирования крайне не хватало, поэтому население оставалось в массе своей необразованным.
Большевики, ставившие перед собой и страной амбициозную задачу разжечь пожар мировой революции, с подобным положением вещей мириться не собирались. Они провозгласили одной из своих задач введение всеобуча — сначала начального, а затем и среднего образования; грамотные специалисты молодой республике были нужны как воздух. Уже в 1918-м приняли декрет о единой трудовой школе: отныне образование первой ступени становилось общим, обязательным для всех, да ещё и платить за него было не нужно.
Однако новые реалии оказались достаточно суровы: денег на обучение такой прорвы детей (и взрослых) у РСФСР не было, поэтому спустя год после образования СССР власти ввели плату за обучение (отказаться от нее получилось только три десятилетия спустя, в 1956-м).

Ещё через год, в девятнадцатом, новым декретом «О ликбезе» все советские граждане старше 8 и младше 50 лет должны были обучиться чтению и письму. Задача была столь важной, что ради её реализации даже пошли на сокращение рабочего дня на пару часов, притом зарплату великовозрастным школярам сохраняли в полном объёме.
Но это была не единственная трудность. Для того, чтобы всех обучить, у Советов не хватало фактически всего — денег, школ, педагогов… Пришлось пойти на чрезвычайщину и создать специальный орган власти — Всероссийскую комиссию по ликвидации безграмотности, в просторечии — ликбез. Она ведала подготовкой кадров, искала помещения, добывала учебники…
Люди здесь работали разные. Были и энтузиасты, хватало и откровенных жуликов, поэтому быстро решить проблему не удалось. В 1930 г. комиссия отчиталась о ходе реализации программы и признала: есть проблемы. Тогда же приняли новое постановление, где поставили задачу «загнать» всех детей от 8 до 15 хотя бы в начальную школу.

Казалось бы, за учителей в такой ситуации власти должны были биться, ан нет. Одной рукой ставя задачу всех обучить, другой коммунисты начали прореживать неблагонадёжных; с 1922 по 1928 гг. уволили, сократили или переместили с места на место почти половину педагогов. Не хватало и педагогических вузов, что тоже усугубляло положение дел.
Как в школу пытались «мобилизовать» почти всех подряд
Чрезвычайные задачи требовали чрезвычайных мер, поэтому это новое постановление 1930 года включало ряд парадоксальных мер.
- Например, в школы разрешили вернуться некоторым преподавателям, ранее репрессированным по неблагонадёжности, стали вовлекать студенчество, а ещё разрешили работать не по специальности.
- Параллельно было принято решение создать широкую, если не сказать — всеобъемлющую сеть педагогических вузов, курсов и средних профессиональных училищ. В Сибири и Зауралье, например, существовали агитбригады, задачей которых была «вербовка» будущих преподавателей; были созданы спецкурсы при школах-семилетках, где подготовке к обучению в педвузе и педтехникуме уделялось повышенное внимание.
- Наконец, к концу года в школы стали командировать бывших учителей — тех, кто когда-то кончал педагогический институт и какое-то время трудился на ниве образования, но затем решил сменить сферу деятельности. Отказаться было нельзя: штраф, а за вторую попытку уклонения — тюрьма.
Комсомол на волонтерских началах занимался агитацией и пропагандой, распространял литературу — в общем, просвещал как мог. В обиход вошли избы-читальни, где молодежь читала неграмотным книги или ставила по ролям спектакли, заботилась о наличии канцтоваров, занималась с неуспевающими в рамках школьной программы. Школы организовывались и на дому.
Широко вошла в обиход мобилизационная практика: трудовые коллективы выдвигали людей на педагогическую работу, а там попробуй откажись от важного общественного поручения! Понятно, что при таком подходе, ориентированном на максимально быстрое достижение количественных показателей, страдало качество: восточнее Екатеринбурга 45% учителей младших классов имели только начальное образование, а некоторые и вовсе его не имели.
Даже такие меры не помогали решить проблему быстро и радикально, поэтому с 1933 года наркомпрос стал практиковать принудительные длительные командировки, когда педагогов из центральных областей и столичных городов отправляли на укрепление провинциальных педагогических коллективов. А там появилась система обязательного распределения студентов.
Помогли ли курсы и заочное образование справиться с нехваткой учителей?
Курсы не только повышали образовательный уровень будущих педагогов и давали им основы необходимых профессиональных знаний — не меньшее значение придавалось и подготовке идеологической. Какой смысл тратить деньги народа, если выученный на них специалист не будет верным партии? Иногда идеологическая подготовка превалировала над профессиональной, что признавалось даже партийными чиновниками, отмечавшими, что курсы страдают недостатком эффективности, методисты неподготовлены, а финансирование явно недостаточно.

До 1929 года курсы были годовыми и полугодичными — притом что учителей готовили с нуля. В 1930 и 1931 годах и этот рекорд был перебит: появились программы продолжительностью три или два месяца. Всё это в короткий срок, за пять лет, позволило выпустить 150 000 учителей, в основном для первых классов, чтобы призвано нивелировать наиболее острый кадровый голод.
Разумеется, качество хромало, и учителя нередко делали не меньше ошибок по части грамматики и орфографии, чем их питомцы.
Тем не менее, начиная со второй половины 1932 года Наркомат просвещения постепенно стал переходить к подготовке педагогов в рамках высшей школы. Студентов привлекали на заочные программы льготами и отпусками, сокращали общественные работы, давали материальную помощь и паёк.
Но и тут — на базе высшей школы и профильных профессиональных учебных заведений — решить проблему сходу не удавалось. Не хватало кадров и литературы, да и многие студенты были не готовы к тому, чтобы учиться по педагогическому профилю.
В 1936-м появилась новая разновидность образовательных организаций — учительские институты, которые функционировали при высших учебных заведениях и давали высшее же образование — правда, неполное. Параллельно наркомат просвещения повышал заработную плату педагогов и предпринимал другие меры, направленные на улучшение качества жизни шкрабов — школьных работников: в провинции давали дома и транспорт (телегу с лошадью), домашний скот, выделяли дрова для отопления не только школы, но и дома. В 1936-1938 гг. эти меры позволили вернуть в профессию почти 15 000 учителей, ранее покинувших школы.

На выходе получилась парадоксальная ситуация: дефицит кадров сохранялся, хотя их число и выросло в 4 раза по сравнению с 1914 годом, имеющиеся кадры были плохо подготовлены, многие учителя уходили сразу после завершения обязательного периода отработки по распределению... Тем не менее, даже с такими кадрами и слабой базой советская школа смогла выполнить поставленную задачу: к 1940 году среди взрослых трудоспособных советских граждан доля неграмотных не превышала 9%, а к концу десятилетия сократилась до 2-3%, что ставило СССР на один уровень с такими европейскими странами, как Франция и Италия.